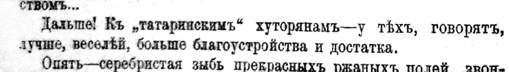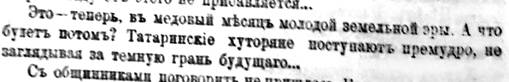|
Изменения 5 июля 2011 Андрей Чернов КАК СПЕРЛИ ВОРОВАННЫЙ ВОЗДУХ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ – Крюков был честнейший, порядочный
человек, если бы он узнал, что Михаила Шолохова обвиняют в плагиате, он бы
вызвал наглеца на дуэль! Говорят, что Шолохов якобы переписал рукописи, чтобы
сделать плагиат более достоверным. Посмотрите черновики «Тихого Дона», на
некоторых вариантах правка на правке, разными чернилами, в разных местах,
так, что сложно разобрать первоначальный текст! Чем имитировать такое, проще
самому написать роман! Александр Шолохов, директор музея-заповедника Михаила
Шолохова, внук писателя http://donnews.ru/http://donnews.ru/Pervyy-Tikhiy-Don-bez-tsenzury-izdadut-na-Ukraine_2702 Содержание
части: МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА НА ДВА ОТТЕНКА ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ «ТД». РУКА СЕРАФИМОВИЧА? О ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН Ф.Ф.КУЗНЕЦОВА МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА НА ДВА ОТТЕНКА «Вон далеко, на горизонте, у низких лиловых холмов, беленькие хатки Зеленовского хутора, сизые вербовые рощицы и маленькие, словно игрушечные ветряки. Медленно подымаются и падают их крылья... Вон по дороге баба верхом на лошади. Бурые пятна коровьего табуна, воза с сеном по лугу, дрожащее марево над полосатой зеленью еще не выгоревшей степи... Просторно, широко, а деться некуда...» (Крюков. «Зыбь»). «На восток, за
красноталом гуменных плетней, – Гетманский шлях, полынная проседь,
истоптанный конскими копытами бурый, живущий придорожник, часовенка на развилке;
за ней – задернутая текучим маревом степь. С юга – меловая хребтина горы. На
запад – улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу» (ТД. 1. Первый
абзац). Цветовая гамма первого фрагмента: лиловый (холмы), белый (хаты), сизый (вербовые рощи), бурые пятна (коровий табун). Второй фрагмент: красно-сизый (краснотал), проседь (полынь), бурый (придорожник), меловой (белая хребтина горы). В каждом отрывке для описания пейзажа использовано четыре
краски. Но каждый раз одна пара продублирована оттенками: лиловый и сизый
(«Зыбь»); седой и меловой (ТД). Это и есть то, что называется авторским приемом («рукой данного мастера»). Подделать такое можно, лишь проведя тщательный анализ поэтики Крюковской прозы и имея целью приписать свое творение Федору Крюкову. ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ «ТД».
РУКА СЕРАФИМОВИЧА? Вот первый абзац восьмой части «Тихого Дона». Той части, которую Крюков написать целиком не мог, поскольку в ней повествуется о том, что происходило на Дону после гибели писателя: «…пали над степью густые туманы, засеребрились влагой кусты прошлогоднего ковыля, потонули в непроглядной белесой дымке курганы, буераки, станицы, шпили колоколен, устремленные ввысь вершины пирамидальных тополей. Стала над широкой донской степью голубая весна». Сравним с первым абзацем «Железного потока» Серафимовича (1924), того самого земляка, ученика и протеже Крюкова, что в 1926 году возглавил журнал «Октябрь», в котором с 1928 года и печатались два первых тома «Тихого Дона»: «В неоглядно-знойных облаках пыли, задыхаясь, потонули станичные сады, улицы, хаты, плетни, и лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей». Перед нами один и тот же бессмысленный и полуграфоманский ряд: –
«потонули… курганы, буераки, станицы,
шпили колоколен, устремленные ввысь вершины пирамидальных тополей» – «потонули… станичные сады, улицы, хаты, плетни, и лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей». «Шпили колоколен» – взято из первой книги «Тихого Дона», где описывается католический городок. (Но какие шпили на Дону?) В 1929-м, сделав свое дело, с поста главного редактора Серафимович ушел. Второй абзац «Железного потока»: «Отовсюду многоголосо несется говор, гул, собачий лай, лошадиное ржанье, лязг железа, детский плач, густая матерная брань, бабьи переклики, охриплые забубенные песни под пьяную гармонику. Как будто громадный невиданный улей, потерявший матку, разноголосо-растерянно гудит нестройным больным гудом». А теперь из второй книги «Тихого Дона». Место, о котором мы уже говорили: «Народу на вокзале в Ростове – рог с рогом. Пол по щиколотки засыпан окурками, подсолнечной лузгой. На вокзальной площади солдаты гарнизона торгуют казенным обмундированием, табаком, крадеными вещами. Разноплеменная толпа, обычная для большинства южных приморских городов, медленно движется, гудит». (По одной из донских версий, рукопись была передана сестрой Крюкова именно Серафимовичу). Если так, то «Железный поток» пишется под непосредственным влиянием «Тихого Дона» Другое дело, что Серафимович – все же писатель. Сам писатель. Потому он не переписывает все подряд (методом слева направо), а все же переиначивает. Например,
так… В письме к Крюкову от 28 апреля 1912, высоко
оценивая крюковский талант, Серафимович писал,
что изображаемое им «трепещет живое, как выдернутая из воды
рыба, трепещет красками, звуками, движением, и все это – настоящее, все это, если бы Вы и хотели придумать, так
не придумаете, а оно прет из Вас, как из роженицы. И если бы эту Вашу
способность рожать углубить, уширить, Вы бы огромный писатель были»[1]. Это полуцитата из «Тихого Дона» (либо, скорее, из какого-то
предшествующего ему крюковского текста): «Возле
баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной меди, сазан со стоном прыгнул вверх,
сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас»;
«Зевая широко раскрытым ртом, тот
ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая
шевелящееся оранжевое золото плавников...» и т. д. вплоть до «трепещет
рыба» (ТД: 1, II, 15). Марат Мезенцев в книге «Судьба романов» (Самара, 1998) пишет
об обнаруженном им заимствовании в восьмой части «Тихого Дона», где начало
XVIII главы звучит так: «Ранней весною, когда сойдет снег и
подсохнет полегшая за зиму трава, в степи начинаются весенние палы…» (8, XVIII, 491) А вот из
«Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова: «Рано
весной, как только сойдет снег и станет обсыхать вётошь, то есть прошлогодняя
трава, начинаются палы или степные пожары…»[2]. Пополним нашу коллекцию заимствований. У того же Аксакова и в те же «Записках…»: «Стрепет дрожит, трепещет в воздухе как будто на одном месте и в то же время быстро летит вперед. Всегда прямой его полет производит дребезжащий свист...». Но и это откликается у Крюкова: «Звенели
жаворонки, свистели перепела, красивый пестрый стрепеток с дребезжащим свистом, чиркая, поднимался от дороги и вился, летая кругом» («Гулебщики». 1892). А в той же самой 8 части «Тихого Дона»:«Неподалеку от Гетманского шляха из-под ног лошадей свечою взвился стрепет. Тонкий дребезжащий посвист его крыльев заставил Стерлядникова очнуться от забытья» (ТД: 8, XV, 466). Примечательно, что оба заимствования возникают в Восьмой
части романа, которую погибший Крюков написать уже не мог. Но кто-то мог
воспользоваться его черновиками. О
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА
РАН Ф.Ф.КУЗНЕЦОВА Как
текстолог Ф.Ф.Кузнецов неподражаем. Он может на одной странице заявить, что первая
и вторая части «Тихого Дона» переработаны и переписаны 28 марта, а на другой,
что переработка второй части закончена 31 июля. Эта двойная бухгалтерия нужна
Кузнецову в первом случае для того, чтобы доказать, мол, Шолохов при его
темпах работы мог написать два тома за год, а во втором, чтобы его не
упрекнули, что он в своем тысячестраничном труде отразил не все
хронологические маргиналии. Однако вот еще штрих к портрету Кузнецова-текстолога. В опубликованной рукописи, как полагает Феликс Кузнецов, нет страницы 79. Зато есть две лишних 76-bis и 76-ter. Меж тем пагинация в рукописи противоречива только однажды. С. 74 (первоначально 70). Глава 22. Поехали за невестой. С. 75 (первоначально 71). Приехали к Коршуновым. С. 76 (первоначально 72). Забирают невесту. Угощение в доме
невесты. С. 77 (первоначально 73). Угощение продолжается. С. 77 (вторая половина). Глава 22 (исправлено из 23):
Возвращение в хутор. «Передохнувшие у Коршуновых во дворе лошади добирая
(так! –А.Ч.) до хутора…» Пантелей Прокофьевич благословляет молодых иконой. С. 78 (первоначально 74). Петр напился. Его приводит в
порядок Дарья. Венчание. С. 79 страницы у публикаторов нет. Но вот последние слова с.
78: «Кто-то нахлобучил ему на голову картуз. Пахнуло в легкие теплым полынным
ветерком с юга, из степи<…> захолодавшей влагой шагавшей из-за…» Это
продолжено на странице 76-bis: «…Дона ночи. Где-то за бугром синё вилась
молния, находил дождь, а за белой оградой сливаясь с гулом голосов зазывно и
нежно позванивали бубенцы на переступавших с ноги на ногу лошадях». В издании это концовка XXII главы: «Держа в своей руке шершавую крупную руку Натальи, Григорий вышел на
паперть. Кто-то нахлобучил ему на голову фуражку. Пахнуло полынным теплым
ветерком с юга. Из степи тянуло прохладой. Где-то за Доном сине вилась
молния, находил дождь, а за белой оградой, сливаясь с гулом голосов, зазывно
и нежно позванивали бубенцы на переступавших с ноги на ногу лошадях». Текстологи ИМЛИ просто не разобрали номер (и номер правильный)
в верхнем правом углу страницы 79 (бывшей, как там и указано, разумеется,
75), и определили ее как стр. 76-bis из-за того, что на продолжающей ее текст
странице стоит номер 76 (но это 76 по первоначальной нумерации!) Соответственно, 76-ter становится 79-bis. Не заметить и не исправить (за шесть лет работы целым институтом!) такую детскую ошибку можно лишь в одном случае – если сесть на рукопись и не подпускать к ней никого чужого (и даже своего). С. 80 (первоначально 77). Сверху: синим карандашом зачеркнуто «Вставка к гл. 24» и сверху тем же карандашом «Гл. 24». Начинается: «Коршуновы прикатили…», что соответствует началу XXIII главы: «Коршуновы приехали…» Перед нами даже не халтура. Перед нами тысячестраничный опус
дилетанта-троечника, рассчитанный на то, что интересующийся пипл эту манную
кашку от бешеной коровки схавает и подавиться забудет. Как кур в ощип попал и Шолохов. Страницу 79-bis он должен был
бы пронумеровать как 80. Так и было бы, когда бы он последовательно сочинял и
ставил нумерацию. Но он сводил отдельные выписки и пагинацию проставлял
задним числом. И, видимо, не заметил, что с. 79-bis прилипла к с. 79. Сравнивать две поэтики – дело эффективное, но малоэффектное и довольно хлопотное. Куда легче сопоставлять черновик и беловик одного автора. Идя этим путем и не подозревая о приготовленной ему ловуше, шолоховед Ф. Ф. Кузнецов отыскивает «хищный вислый по-скопчиному нос» («черновая» 1/4–5)[3] и «вислый коршунячий нос» («перебеленная» 1/4), а потом пускается в такое рассуждение: «…Шолохов и здесь вел мучительный поиск более точных
слов и более выразительных деталей.
“Муки слова” здесь очевидны <…> Конечно же, «вислый коршунячий
нос» – куда точнее, чем «вислый по-скопчиному нос», – тем более что
современному читателю трудно понять, что значит это слово. Оно происходит от
диалектного: “скопа” –
разновидность ястреба (по другим данным – из семейства соколиных), то есть
действительно указывает на “коршунячий”
нос»[4]
… Однако в самом раннем рассказе Крюкова есть такой портрет казака: «Нос у него был острый, “скопчиный”, брови густые и седые, а глаза маленькие, желтые» («Гулебщики»). Замена «скопца» на коршуна была сделана, чтобы развести омонимы и избежать комической двусмыслицы. А потому в романе: «масля в улыбке круглые, как казенные пуговицы, коршунячьи глаза» (ТД: 3, V, 269); «Перчаткой гладил Григорий черный ус, шевелил коршунячьим носом, из-под крылатых бровей угрюмым, осадистым взглядом провожал каждую сотню» (ТД: 6, XXXV, 224). При этом: «Безусый скопцеватый Аникей подмигивал Григорию, морща голое, бабье лицо…» (ТД: 1, XXI, 100); «– До тех пор, покеда ты, скопец, шерстью обрастешь…» (ТД: 4, VIII, 91); «Безусое, скопцеватое лицо Аникушки» (ТД: 7, XXIV, 233). Птицу же автор романа называет «копчик» (ТД: 7, XVI, 157). ОБ ОДНОМ ПОДСЧЕТЕ
НА ПОЛЯХ РУКОПИСИ «ТИХОГО ДОНА» И вновь цитата из книги Ф. Ф. Кузнецова: «Часть вторая 1. Но
начала первой главы второй части на этой странице так и не последовало. Вместо
него написан столбец цифр – 50 х 35 1750 х 80 140000 Это хорошо знакомый каждому пишущему подсчет: число строк на
странице – 50 множится на число печатных знаков в строке – 35, что дает 1750,
далее число знаков на странице – 1750 умножается на количество страниц первой
части рукописи – 80, что дает 140 тысяч печатных знаков. Учитывая, что один авторский лист
составляет 40 тысяч знаков, делим 140 тысяч на 40 тысяч и получаем: 3 с
половиной авторских листа первой части “Тихого Дона”, которые Шолохов написал
за месяц. А поскольку в первых двух книгах “Тихого Дона” 38 авторских листов,
то, поделив их на три с половиной авторских листа, которые Шолохов писал за
месяц, получим около 11 месяцев. Вторая книга романа “Тихий Дон” была сдана
им в “октябрь” одновременно с
первой – в конце 1927 года. Обе книги печатались в этом журнале без перерыва
и закончились публикацией в сдвоенном, девятом-десятом номере “Октября” за
1928 г.». Согласимся с наблюдением
шолоховеда: перед нами действительно прикидка «листажа» Первой части романа.
Вот только вывод из этого наблюдения Ф. Ф. Кузнецова – для официального
шолоховедения самый неутешительный. Да, подсчет велся по
«черновику» Первой части. Однако в этой рукописи не 80, а 85 (плюс 2 страницы
вставки), то есть 87 страниц. Все три «редакции» Первой
части («черновая», «перебеленная» и «беловая») графически мало отличаются
друг от друга: на странице действительно в среднем 50 строк (до 53-х), но не
по 35, а по 45–50 знаков в строке (разумеется, считая и пробелы между
словами, как это принято в книгоиздательском деле). Приступая к новой работе,
Федор Крюков обычно оставлял поля (слева или справа от текста), равные
половине (!) страницы. Здесь он делал правку, а если начальный черновик его
не устраивал, то здесь же, параллельно первому наброску, писатель создавал
иной вариант текста. И это в строке черновых рукописей Крюкова («Булавинский
бунт», «Группа Б.») действительно по 35–40 знаков). Почерк у Крюкова был куда
мельче шолоховского, а потому такое число знаков свидетельствует о написании
черновика (или, скорее, перечерненного первого беловика) в две колонки (одна
из которых, впрочем, могла остаться пустой). Шолохов механически
скопировал и тем присвоил крюковский прикидку числа типографских знаков
Первой части «Тихого Дона». И его не смутило, что не
совпадает число страниц (87 против 80), а количество знаков в строке его
фальшивки в 1,4 раза больше, чем то, что взято для подсчета. Этим вор и поймал себя за
руку. P.
S. От «перебеленной» рукописи Шолохова дошли только 16
страниц. Но «беловая» рукопись занимает 92,5 страницы (плюс титульный лист с
двумя эпиграфами). После редактуры и добавлений в 1 части романа по изданию 165 000 знаков с пробелами (то есть 4,5 авторских листа). Если отформатировать Первую часть «Тихого Дона» по предложенным в «подсчете Шолохова» параметрам, то она займет около 100 страниц (при 93-х в «беловой» рукописи Шолохова).
Текст «Тихого Дона» устроен так, что под живым стеклом самых простых слов может таится бездна. Вот старик Мелехов отправляется уличать Аксинью в связи с Григорием: «Пантелей
Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в
курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватой супесью, в
переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой
одеждой и почему-то – анисовыми яблоками» (1, X, 54). Начнем с конца абзаца. Почему яблоки анисовые? Очевидно, потому, что в первой редакции Аксинья звалась Анисьей. Почему пахнет именно яблоками? Да потому, что плод первородного греха на Руси ассоциировался с яблоком (а не с виноградом, как в средиземноморских странах). Слежалая одежда – это те ветхозаветные «одежды из шкур», которые даются Адаму и Еве при изгнания из рая. Вынутые из печи пироги – одновременно и символ брачного пира, и напоминание о человеческой телесности. Красноватая супесь, которой присыпан земляной пол куреня – эхо адамы, крошки той адамы (красной земли), из которой и слеплен Адам. Почему Пантелей Прокофьевич, стремящийся уличить Аксинью, чертом попер в калитку? Да потому, что перед нами пародия на ветхозаветный гнев Саваофа. Пародия, предупрежденная тем, что Аксинья встречает старика с порожним ведром (дурная примета), а у ног ее кот (непременный спутник классической ведьмы). Шесть раз на первой страннице рукописи выведено «станица» и один раз «станичный майдан». Это про то, что в печатном тексте станет хутором Татарским, находящемся на правом высоком берегу Дона примерно в двадцати верстах от Вешенской (ниже по течению Дона) и в четырех верстах от «колена» реки за «Базками и Громковским хутором» (ТД: 2, X, 167). Судя
по упоминанию о меловом восьмисаженном обрыве ( «Против станицы (Вешенской – А. Ч.) выгибается Дон кобаржиной татарского сагайдака, будто заворачивает вправо…» (При взгляде с вешенского берега Дон заворачивал бы влево.) «На Дону, уже в
сумерках, с протяжным, перекатистым стоном хряснул лед, и первая с шорохом
вылезла из воды, сжатая массивом поломанного льда, крыга. Лед разом взломало на
протяжении четырех верст, до первого от хутора колена. Пошел стор. Под мерные
удары церковного колокола на Дону, сотрясая берега, крушились, сталкиваясь,
ледяные поля. У колена, там, где Дон, избочившись, заворачивает влево,
образовался затор. Гул и скрежет налезающих крыг доносило до хутора» (ТД: 2, XVI, 196). Первое колено от хутора Мелеховых – это поворот Дона на север у хутора Калиниского. Значит, хутор в четырех верстах западнее Калининского (между Калининским и Громковским). В романе хутор Мелеховых назван Татарским, а обитатели Татарского зовутся «татарцы». В первой книге этого слова, впрочем, нет, а во второй оно мелькает лишь однажды (ТД: 4, VIII, 90). Зато в третьей встречается десять раз, а в четвертой – тринадцать. И все бы хорошо (дело на Дону, а, значит, речь вроде как про пограничный казачий хутор), когда б не упоминание в тексте о «сотне татарских казаков» (6, II, 20), «татарских казаках» (ТД: 6, XIII, 114), «татарской пехоте» (6, XXXII, 210; 6, XLVI, 293), «татарских пластунах» (6, XLVI, 290; 6, LIX, 378), «сотне татарских пластунов» (6, LXIII, 413), «пешей сотне татарцев» (6, XLVI, 290; 6, LVI, 358; 6, LVI, 363). Но особенно комично: «Отряд татарских казаков под командой хорунжего Петра Мелехова…» (5, XXX, 386). И как в этом контексте прикажете понимать фразу про казака с «татарским энергичным лицом» (6, VIII, 85) и слова «Молитвы от огня», где речь идет, в частности, о «татарском супостате» (3, VI, 278)? При этом: Татарский конный полк
– один из полков Кавказской туземной конной
дивизии, сформированный из этнических азербайджанцев. 23 августа 1914 года его
командиром был назначен генерал-лейтенант Пётр Александрович Половцов. Светлана и Андрей Макаровы предположили, что хутор Мелеховых (в протографе первоначально была станица) у подлинного автора назывался не Татарским, а Татарниковским[5]. Эпиграфом к своей работе авторы взяли такой текст: «…Куст “татарина”
состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал
остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то
были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его,
с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный
черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был
переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки
стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали
руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему
всех его братий кругом его… (Лев
Толстой. Хаджи-Мурат). Для Льва Толстого пунцовый цветок «татарина» (татарника) – не просто цветок. Это символ человеческой несгибаемости: «Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется “татарином” и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, – он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. Какая, однако, энергия и сила жизни, – подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. – Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь». Справка: Татарник – название многих сорных колючих
растений (Onopordon, Cirsium, Carcduus, Lappa и Xanlhium), чьи плоды
цепляются за шкуры зверей и одежду людей. Другие имена – татарин, репейник,
репей, репьяк, лопух, пустотел, бодяк, дедовник, волчец, осот, чертополох,
мордвин, лапушник, чертополох. Считается, что татарник назван так за свою
неприхотливость и умение жить в засушливых степях. У него крепкий колючий
стебель, достигающий 2,5 м. высоты, колючие зубчатые по краю листья и
красивые соцветия корзинки с нежными трубчатыми, лиловато-сиреневыми цветами,
и нежным запахом. В народной медицине отвар татарника используют, в
частности, для промывания ран. ...Может, пора наконец промыть крюковским татарником рану, которая была нанесена русской культуре еще в 1920-х, и возвратим «Тихий Дон» его автору? Макаровы обратили внимание на строки из
очерка другого русского писателя: «Необоримым
Цветком-Татарником мыслю я и родное свое Казачество, не приникшее
к пыли и праху придорожному, в безжизненном просторе распятой родины...» (Ф. Крюков. «Цветок-Татарник». –
Донская речь, 12 / 25 ноября 1919 г.). Итак, если в начальном тексте была станица, то Татарниковская, если хутор, то Татарников (или Татарниковский). Логика развития текста свидетельствует, что московские исследователи правы. И не только потому, что азиатский акцент рода Мелеховых восходит вовсе не к татарам, а к туркам («по-уличному» их и зовут Турками)… Шолохов не заметил, что в романе имя хутора появляется далеко не сразу. Сначала речь о каком-то «Татарском кургане»: «Ребятишки,
пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий
вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана» (ТД: 1, I, 10). Потом следует весьма красноречивая и символическая сцена, в которой уже узнавший про измену жены Степан Астахов рубит плетью бутоны татарника: «Степан шел возле брички, плетью сбивая
пунцовые головки придорожного татарника»
(ТД: 1, XIII, 62). И вновь о кургане, названном тут почему-то ТатарОвским: «– Климовна!
Надбеги, скажи Пантелею-турку, что ихние ребята возля Татаровского кургана вилами попоролись...» (ТД: 1,
XVII, 84). По логике опубликованного текста вроде бы должно быть «возле Татарского кургана», но переписчик, переименовав курган (вырыв имени дыру в три буквы), по недосмотру сохранил часть суффикса «ов»: Татар<НИК>овского. (Так черные археологи, снося дивинец кургана или сопки, обязательно пропустят какие-то артефакты.) Обратим внимание на то, что название хутора в романе еще не прозвучало. Выходит, курган назван по цветку, а хутор – по кургану. И только много позже мы услышим такой диалог казака Федота Бодовскова и большевика с латышскими (по первым изданиям – немецкими) корнями, слесаря Иосифа Штокмана: «– А с какого
будете хутора? – С
Татарского. Чужой человек
достал из бокового кармана серебряный, с лодочкой на крышке, портсигар;
угощая Федота папироской, продолжал расспросы: – Большой ваш
хутор? – Спасибочко, покурил.
Хутор-то наш? Здоровый хутор. Никак, дворов триста. – Церковь
есть? – А как же,
есть. – Кузнецы
есть? – Ковали, то
есть? Есть и ковали. (ТД: 1, IV, 135–136). Это первое в тексте (меж тем страница уже 136!) упоминание имени хутора. Обратим внимание на прозвучавшую здесь же характеристику хутора. Вроде бы ничего особенного… Но вслушаемся: «Здоровый хутор. НИКак, дворОВ ТРисТА». Это анаграмма, а в ней как раз те фонемы, которые с корнем, как сорный цвет, цвет казачьей чести и непокоренности, вырвет Шолохов из имени мятежного хутора. Вырвет, не заметив, что аллитерационная организация этого фрагмента доведена автором до пластики если не скороговорки, то моностиха: Хутор
Татарниковский – никак дворов триста Или: Станица Татарниковская
– никак дворов триста Невинный на первый взгляд придорожный диалог казака Федота Бодовскова и Штокмана наполнен зарницами грядущего противоборства. Штокман, человек-шток, человек-древко, «враг народа», если вспомнить название пьесы Ибсена, из которой заимствована и сама фамилия Штокман, черный человек, носящий имя Сталина и отчество Троцкого (с 1918 года тот и другой грабят южнорусские области, останавливают белых и казаков под Царицыным, а потом начинают расказачивание), интересуется, велик ли хутор, есть ли церковь, кузница, слесарные мастерские… За каждым вопросом – мощный мифологический, а, значит, и поэтический пласт семантического чернозема. Федот Бодовсков чувствует («Вам чего надо-то?»), что незнакомец чем-то опасен. Хотя вряд ли понимает, чем именно. Понимает автор романа: упоминание о том, что дворов в Татарниковской станице именно триста – это такая же знаковая цифра, какой был для русских монархистов трехсотлетний юбилей Дома Романовых. По той же художественной логике и поросшие татарником седые курганы – не просто приметы степного пейзажа, а символы казачьей доблести и славы. Татарник не часто упоминается в романе. Зато так: «…волк вышел на
чистое и, выгадав с сотню саженей, шибко шел под гору в суходол, сплошь
залохматевший одичалой давнишней
зарослью бурьяна и сухого татарника» (ТД: 2, XVII, 203). Сравним у Крюкова в очерке «Шквал»: «сплошной загон бурьяна или татарника». Пунцовые непокорные соцветья срублены. Бурьян и сухой татарник – это те же библейские «крапива и репейник». Вот что говорит пророк Исаия там, где речь о суде над отпавшими от Бога народами и об участи земли, забывшей о Боге: «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником – твердыни ее…» (Исаия: гл. 34, стих 13). Это единственное место во всей Библии, где крапива и репейник упомянуты вместе. Но вернемся к фонетике: чтобы у читателя не возникло ощущение натяжки (мол, подумаешь, это случайность!), процитируем еще раз первое упоминание о Татарниковском кургане: «Ребятишки… рассказывали,
будто видели оНИ, Как Прокофий вечерами, когда вянут
зори, на руках носил жену до Татар<НИКов>ского,
ажНИК, кургана» (ТД: 1, I, 10). Тройная (по канону фольклорного заговора) аллитерация позволяет восстановить начальное имя хутора Мелеховых. Вспомним, что у Льва Толстого татарник зовется татарином (по Далю это два равноценных названия). Это значит, что и в варианте «хутор Татарский» речь также идет о непокорном цветке. Но все-таки в «Тихом Доне» цветок дважды назван татарником, следовательно, расположенный волей автора «Тихого Дона» между хуторами Громковским и Калининским хутор должен был называться или Татарников (близ Ростова на Дону и сегодня есть хутор с созвучным именем – Татников), или, что, вероятней, – Татарниковский. Именно такие окончания имеют верхнедонские хутора, расположенные по берегам Дона близ Базковской и Вешенской: Меркуловский, Альшанский, Белгородский, Громковский, Калининский, Рыбинский, Рубежинский, Плешаковский, Еланский…Матвеевский. Хуторяне Татарниковского – татарниковцы. А потому и Петро Мелехов командовал не татарской, а татарниковской сотней. Культ цветка-татарника начался у Крюкова еще до прочтения «Хаджи-Мурата», где цветок-татарин (так зовут его туляки) – символ земной, корневой крепости человеческого духа: «Чуть маячили темные силуэты крупных сорных трав – татарника и белены» («Жажда». 1908). «Застилал ли глаза пот, или это всегда так, но при всем
усилии расчленить эту плотную массу, рассмотреть отдельные лица, угадать по
движению губ, по выражению глаз зачинщиков и нарушителей он не видел ничего,
кроме странной чешуи из голов, однообразной сети пятен телесного цвета,
многих глаз, сцепивших его своими лучами отовсюду, и противно-мокрые,
слипшиеся волосы. Точно сплошной загон бурьяна или татарника, сорной, густо пахнущей, волосатой травы. И казалась
она то близко, – чувствовалось даже шумное, тяжелое, отдающее терпким потом
дыхание ее, – то уходила вдаль и сливалась в сетчатый, подвижный узор, в
котором бродило и скрывалось что-то враждебное и загадочное» («Шквал». 1909): В этот ряд встраиваются и «татаринские хуторяне» из очерка "Мельком" (1914). Однако в последние месяцы жизни писателя в его прозе происходит второе явление татарника. И уже со ссылкой на Льва Толстого. «Буйные заросли перепутанных не кошенных трав,
изумрудные атавы, гигантский татарник,
лебеда и брица по червонным загонам хлеба, бирюзовые васильки. золотистый
подсолнух и дойник...». («После красных
гостей». Июль 1919). «Достаточно ли
крепки окажутся наши казацкие нервы в этой неравной борьбе «рукава с шубой»,
или пошатнутся они в какой-либо лавине испытаний – одно несомненно:
органическая неспособность казачьей натуры приладить себя к атмосфере того
социального опыта, который тов. Троцкому безвозбранно удалось проделать над
Россией и который у нас на Дону напоролся на жизнестойкость и упорство цветка-“татарника”, – кто не помнит
прекрасной интродукции к “Хаджи-Мурату” Льва Толстого? <…> И как
колючий, стойкий репей-татарник,
растет и закаляется в тревогах и невзгодах боевой жизни будущий защитник Дона
и матери России – босоногий, оборванный Панкратка, предпочитающий сидению в
погребе с лягушками пыль станичной улицы и грохот канонады. <…> И я вспоминаю прекрасный образ, который нашел великий
писатель земли русской в «Хаджи-Мурате» для изображения жизнестойкой энергии
и силы противодействия той девственной и глубокими корнями вошедшей в родимую
землю человеческой породы, которая изумила и пленила его сердце беззаветной
преданностью своей, – светок-татарник…
Он один стоял среди взрытого, <вз>борожденного поля, черного и унылого,
один, обрубленный, изломанный, вымазанный черноземной грязью, все еще торчал
кверху. “Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после
поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял, – точно вырвали у него кусок
тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаза, но он все стоит
и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его”... Необоримым цветком-татарником мыслю я и родное свое казачество, не приникшее к пыли и праху придорожному в
безжизненном просторе распятой родины, отстоявшее свое право на достойную
жизнь и ныне восстановляющее единую Россию, великое отечество мое, прекрасное
и нелепое, постыдно-досадное и невыразимо дорогое и близкое сердцу» («Цветок-татарник».
Ноябрь 1919). И практически теми же словами: «Есть у великого писателя земли русской, у Льва
Толстого, один великолепный образ жизнестойкой энергии и силы противодействия
истреблению: цветок-татарник – в
интродукции к повести “Хаджи-Мурат”. Среди черного, унылого, безжизненного
поля стоял он один, обрубленный, изломанный, вымазанный грязью. “Видно было,
что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял
боком, но все-таки стоял – точно вырвали у него кусок тела, вывернули
внутренности, оторвали руку, выкололи глаза, но он все стоит, не сдается
человеку, уничтожившему всех его братьев кругом него”. Необоримым цветком-татарником
мыслится нам и родное казачество, и героическая Добровольческая армия, не
приникшие к пыли и праху придорожному, когда по безжизненным просторам
распятой родины покатилась колесница торжествующего смерда, созидавшего
российско-филистимскую советскую республику» («Ответственность момента». Ноябрь–декабрь 1919). Что же в «Тихом Доне»? Оказывается, что же самое. Еще раз перечитаем, но теперь уже подряд. Вот на первой же странице романа: «С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на
майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по
хутору чудно́е. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто
видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке
кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней
рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала
заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой» А вот Степан Астахов обдумывает измену своей жены и готовится к мести: «Степан шел возле брички, плетью сбивая пунцовые
головки придорожного татарника» (ТД: 1,
XIII, 67). Но татарник
неистребим, как плодородие, как любовь и жажда жизни:
«Быки шли охотно, и взбитая копытами пресная пыль на летнике подымалась и
оседала на кустах придорожного татарника. Верхушки татарника с
распустившимися малиновыми макушками пламенно сияли. Над ними кружились
шмели» ТД: 7, XIV, 134). Драка Григория и Петра происходит тоже «возля Татаровского кургана» (ТД: 1, XVII, 84). В сухих зарослях татарника находят прибежище волк ТД: 2, XVII, 203) и дикая «желто-бурая худая коза» с подростком-козленком (ТД: 5, XXII, 328). Других упоминаний о татарнике в романе нет. Продолжение этот сюжет получил после того, как москвич Савелий Рожков перевел в элекстронный вид один из забытых очерков Крюкова, вышедший в 1914 году в трех номерах «Русского Богатства» (№№ 7, 8, 9). Они свидетельствуют о том, что про непокорный хутор Татарский (он же Татаринский) написал не М. А. Шолохов, а автор того очерка. То есть Крюков. Вот из № 8. Фрагмент страницы 202:
И вот еще, тоже № 8. Со с. 204:
Давний,
забытый, пророческий текст. Написан и опубликован летом 1914 года: «– Леса у нас были огромаднейшие! – с гордостью
воскликнул он: – ну наши отцы-деды прожили. Сосняк был – в три обхвата!..
Ничего не осталось... Вот эту березовую рощицу последнюю доедаем... – А как же дальше? – А дальше как Бог даст... – сказал он ясным и беззаботным
голосом: – соломкой будем как-нибудь обходиться... А уж палки взять негде
будет... – На три года положили не пахать — может, зарастет. А
если ничего не выйдет – под распах! И опять полное удовлетворение, даже удовольствие прозвучало
в его голосе. Так и вышло: 1914 + 3 = 1917 Это очерк Ф. Д. Крюкова («Мельком». «Русское Богатство», 1914, № 7, С. 279–307, № 8, С. 184–207, № 9, С. 162–180). Я
полагал, что Крюков придумал «татаринских хуторян». Но все оказалось еще
интересней. Московский филолог Михаил Михеев переслал мне письмо от Савелия
Рожкова: По вопросу о «татаринских хуторянах». Нашлись такие.
Прежде я изучал маршрут путешествия по 10-верстной карте Стрельбицкого - там
в интересующем нас месте ничего похожего нет. А на 3-верстной нашлось. У К
так названы хуторяне, живущие близ д. Татариновой - то ли выселившиеся из
неё, то ли поселившиеся на земле этой деревни. Стояла деревня как раз между
Болховым и Кривцово. На советской генштаб. карте её кстати тоже нет, хотя
соседние Кривцово и Баргиново еще существуют. Прочие упомянутые в очерке
топонимы тоже нашлись. Выдуманных названий здесь кажется нет совсем, все
максимально документально (хотя некоторые имена искажены или переданы не так,
как на карте). По этим ссылкам 5 карт, на которых изображен весь маршрут путешествия. Файлы закачаны на Яндекс.народ.ру. Листы расположены с юга на север в таком порядке: 17-14, 16-14, 15-14, 14-14, 13-14. На листе 17-14 Орел - начало маршрута, на листе 13-14 - Калуга. (1, 2, 3, 4, 5). Ниже даю краткую
лоцию маршрута путешествия ялика "Энэс" от Орла до Калуги по р.
Оке: Верх. и Ниж. Щекотихина и Костомарова – верх листа 17-14, чуть выше
Орла. Плещеево, Касьяновка, Булановка – внизу листа 16-14. Ниже Булановки по
течению, слева, впадает р. Неполодь. Еще ниже на левой же стороне Оки -
Хрыки, и рядом с ним Паслово. С правой стороны, против Хрыков устье р. Оптухи
(название дано на листе 17-14) и через нее - ж/д мост. Далее – выше по листу
и вниз по течению – примерно посередине листа обозначена д. Харичкова (Чижи),
где делали привал в полдень второго дня. У верхнего края листа, справа по
реке, где в Оку впадает р. Зуша – Шашкино. По всей видимости это и есть
крюк-ое - с. Спасское, оно же Сашкино. Кривцова (у К - Кривцово), где имение
Лавровой – самый низ листа 15-14, слева по реке. А на листе 16-14, вверху
слева, т.е. юго-западнее Кривцова – Болхов. Между ними на том же листе 16-14
– Багринова (ближе к Кривцово) а ближе к Болхову (вот они!) - Татаринова.
Воронец – на листе 15-14, ниже Кривцова, с правой стороны реки, сразу за
границей губернии, которая обозначена пунктиром. На листе 14-14, примерно в
его середине, между Лихвином и Перемышлем – Андронова, Машковичи и монаст.
Покровский Добрый. (Андропова нет и не должно быть, это я ошибся в
расшифровке, а у К дважды упомянуто Андроново.) Лист 13-14, в левом нижнем
углу, на левой стороне Оки, в устье Угры – Спаское (село Спас у К), а
напротив, на правой стороне, по направлению к Калуге – Желыбина. Должно быть
это и есть Шебалино. К, видимо, записал на слух название, которое услышал с
другого берега реки, отсюда и искажение. Итак, две вполне незаметные цитаты из этого никогда не переиздававшегося очерка оказались упоминанием о вполне реальном Татаринском хуторе. Правда, в первом случае эпитет почему-то взят в кавычки: 1. «Дальше! К „татаринским“ хуторянам – у тех, говорят, лучше, веселей, больше благоустройства и достатка» (№ 8, с. 202). 2. «Это – теперь, в медовый месяц молодой земельной эры. А что будете потом? Татаринские хуторяне поступают премудро, не заглядывая за темную грань будущего» (№ 8, с. 204). Тема
очерка – путешествие по Оке от Орла до Калуги на купленной по этому случаю и
названной «Энэсом» лодке (НС, т. е. народные социалисты – политическая
партия, одним из организаторов которой был Ф. Д. Крюков). Путешествовали
втроем (двое старых друзей, один из которых прихватил и своего сына). Что община? Как там ушедшие на отруба хуторяне? Эти, и еще более важные вопросы волнуют автора: «Кто обновит старые меха? когда? и как? Сохранится ли зерно здоровой, правильной жизни по-божьи? или погибнет? и станет человек человеку – кирпич?..» Итак, татаринские хуторяне. Те, что живут «лучше, веселей, больше благоустройства и достатка» и «поступают премудро, не заглядывая за темную грань будущего». Сопоставление с текстом «Тихого Дона» и толстовским «Хаджи-Муратом» показывает, что орловско-тульская деревня Татаринова и вышедшие из нее, чтобы поселиться поблизости татаринские хуторяне (единственные на всем протяжении Оки в Орловской, в Тульской и Калужской губерниях, кто сумел обустроить фермерское хозяйство), аукнулись сначала в «Тихом Доне», а потом в двух предсмертных очерках Федора Крюкова. Путешествие Крюкова и его товарищей от Орла до Калуги имело место в конце мая 1914 года. Очерк «Мельком» пишется по горячим следам, и верстку автор правит уже в первые военные недели. Об этом говорит эпизод с дознанием, не шпионы ли наши путешественники: «– Видите ли,
я – староста. Ну, вот... сами знаете, небось читали в газетах, когда была
война с Японией, как приезжали они в нашу землю планты снимать. – Нет, мы – не
японцы. Мы – австрийской короны... Увы! Никто из
нас не подозревал в то время, что через два месяца такая шутка едва ли
сорвалась бы с языка. Староста удовлетворился нашим шутливым ответом. Мы
прибавили, что „планты“ снимать нам нет надобности: мы купили готовые в
магазине Главного Штаба. И развернули перед ним карту». «Хаджи-Мурат» написан в 1904. Но его первая публикация тут: Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого / под ред. В. Г. Черткова. – Берлин: 1912. Т. 3. Весной
1914 эта повесть только что прочитана, и не надо объяснять, почему в это
время Крюков выдумал хутор с хаджи-муратским названием. Тульская
губерния для Крюкова, младшего современника и ученика Толстого, – это прежде
всего Ясная Поляна (она как раз между Окой и Тулой). По Оке Крюков проплывает
Лихвин (сегодняшний Чекалин). Это на 35 км восточнее Козельска («Как в
кинематографе, торопливо и мимолетно проплыли перед нами маленькие уездные
городки с звучными летописными именами») и на 77 км. западней Ясной Поляны.
Напомню, что Толстой умер лишь три с половиной года назад. «Девятнадцатого июля вестовой полкового командира
перед вечером успел шепнуть приятелю, казаку шестой сотни Мрыхину,
дневалившему на конюшне: 19 июля – это по русскому стилю По европейскому календарю уже наступило 1 августа. 28 июля (15 по ст. стилю) Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, а в первый день августа Германия – России. Эту войну современники поначалу воспринимали как Вторую Отечественную. Мирный, хозяйственный контекст убит самой действительностью, и на фоне грядущих сражений цитата из Толстого выглядит неуместной. Крюков, вычитывая корректуру в августе, изымает хаджи-муратскую реминисценцию из очерка. (К тому же образ несгибаемого цветка-татарина мог оказаться как нельзя кстати в случая трагического развития военный событий. Так в конце концов и оказалось, только уже в 19 году, под занавес другой войны, не империалистической, а гражданской). Итак,
благодаря редакторской спешке (эпизод вырезан, но два эха его остались) мы
получили расписку от ФДК: да, хутор Татарский (Татаринский, Татарниковский) –
это, его, писателя Ф. Д. Крюкова, творение. Впрочем, и «Тихий Дон» – тоже. *
* * Очерк Крюкова «Мельком» (1914) наполнен десятками словечек, полуцитат и реминисценций из ненаписанного еще «Тихого Дона». Наиболее комичный случай (бог шельму метит!) произошел со словом стремя – ‘стремнина реки’, отсутствием которого у Крюкова шолоховед гордится, как собственной заслугой. Но Крюкова стремя встречается дважды, а вот Шолохов его явно увидел впервые в ТД: в «черновой рукописи» на первой же странице читаем «стрЯмя… Дона». См.:
*СТРЕМЯ стремнина реки, быстрое течение (ДС) Близкую к ТД параллель обнаружил С. Л. Рожков (чьей расшифровкой крюковского очерка мы воспользовались): «В одном месте едва не опрокинулись: попали на каменное заграждение, образовавшее порог. Быстрым потоком бросило нас на камень, повернуло лодку бортом поперек стремени, и „Энэс“ едва не хлебнул водицы. Но... „упором“ выровнялись, снялись и благополучно вынеслись в безопасное русло» («Мельком», гл. 5. РБ, 1914, № 8. С. 171). Сравним: «Баркас царапнув кормою дно [скользнул] осел в воде и отошел от берега. Стремя подхватило его, понесло покачивая, норовя повернуть боком. Григорий не огребаясь правил веслом» (ТД, рук, 1 ред. С. 5). По изданию:
«Баркас, черканув кормою землю, осел в воде, оторвался от берега. Стремя
понесло его, покачивая, норовя повернуть боком» (ТД: 1, II, 14). **БЕЗ НЕСТЕРА ДЕСЯТЕРО (в обоих случаях в брачном контексте) «– Ошибаетесь, мамаша! Захочу – пойдут! Напрасно расстраиваетесь! Завтра к вам приду в гости – и вы примете... – Нужен еще... черт-то... Без Нестера десятеро...» («Мельком». 1914). – «А у вагонов толпились казаки; глядя на них, покрякивали, перемигивались, нудились. – Подвалило счастье Петру... – Моя волчиха не приедет, отроилась. – Там у ней без Нестера десятеро! – Мелехов хучь бы своему взводу на ночужку бабу пожертвовал... На бедность на нашу... Кх-м!.. – Пойдемте,
ребята! Кровью изойдешь, глядючи, как она к нему липнет!» (ТД: 4, IX, 98).По НКРЯ только в ТД, при этом в
варианте «Без Нестора десятеро». со вторым мягким «е»: Нестер. ****ОБЛАКА/СОЛНЦЕ, КАК С ПОХМАЛЬЯ «Серые неуклюжие облака тяжело клубились за крышами домов, над городским садом и за рекой. Грузно ворочались, лезли друг на друга, ползли вширь, рыхлые, мутные, словно с похмелья, бестолково толпились и, видимо, упорно не желали подчиниться требованиям порядка – разойтись. Тянуло от них свежим ветром, холодком и угрюмым намерением полить землю долгим, прочным „обложным“ дождем. Иной раз какой-нибудь синий дракон выпячивал нелепую зубчатую спину, разевал пасть и угрожающе тянулся к городу. Но вдруг останавливался, словно сконфузившись, свертывался и тонул в мутной пучине, похожей на далекий сосновый бор» («Мельком». 1914) – «Невеселое, как с похмелья, посматривало солнце» (ТД: 2, XXI, 234). ***ВЗМЕСИТЬ ГРЯЗЬ «...грязь, которую взмесили в городе» («Мельком». 1914) – «где скотина взмесила осеннюю грязь» (ТД: 2, X, 173). В первом случае речь о мае 1914, во втором об осени 1913. Более глагол «взмесить» в ТД не употребляется, у Крюкова он также не обнаружен. В НКРЯ глагол «взмесить» и образованные от него причастные формы не найдены. ***ПОДСУЧИТЬ ШТАНЫ/РУКАВА «бродили ребятишки, подсучив штаны» («Мельком». 1914); «О<тец> Иона подсучил рукава» («Сеть мирская». 1912); «он подсучил шаровары» («В родных местах». 1903) – «подсучивая рукава» (ТД: 2, V, 142). ***РАСПРОСТЕРЛИ УЦЕЛЕВШИЕ ВЕТВИ БЕЗ СЛОВ ВЗЫВАЯ
– БЕССТЫЖЕ ЗАДРАВ ТОЩИЕ НОГИ, БЕЗГОЛОСО ВЗЫВАЯ «Корявые,
обрубленные ветлы, израненные и в темных струпьях, распростерли
уцелевшие ветви, без слов взывая в белому вечернему небу…» («Мельком».
1914). – Ой, спасите, родимые! Ой, смертынька моя! Спасать
старуху никто не вернулся. А аэроплан, страшно рыча, с буревым ревом и
свистом пронесся чуть повыше амбара…» (ТД: 6, LIII, 347). ***СОЛНЦЕ, НЕБО И БЕЛЫЕ БАРАШКОВЫЕ ОБЛАКА «Но было великолепное солнце. Были и облачка – мелкие, круглые, белые барашки. Много-много, целое стадо» («Мельком». 1914); «Сквозь белые барашковые облачка голубело небо, солнце изредка пряталось за них, но сейчас же опять выглядывало, ясное и радостное. Было не жарко, легко и весело» (Тут же). – «Тепло грело солнце. Небо было по-летнему высоко и сине, и по-летнему шли на юг белые барашковые облака» (ТД: 6, XXXVI, 230); «На востоке, за белесым зигзагом обдонских гор, в лиловеющем мареве уступом виднелась вершина Усть-Медведицкой горы. Смыкаясь с горизонтом, там, вдалеке, огромным волнистым покровом распростерлись над землей белые барашковые облака» (ТД: 6, XXXIX, 256). ***КЛОЧЬЯ ТУМАНА, КАК СРЕБРОТКАНЫЕ РИЗЫ – СЕРЕБРИСТАЯ ПАРЧА ТУМАНА Май на Оке: «Сияла речка золотом и сталью. Опрокинулись зеленые берега в ней. Сверкали клочья тумана, как сребротканые ризы...» («Мельком». 1914). – Июнь на Дону: «Темны июньские ночи на Дону. На аспидно-черном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зарницы, падают звезды, отражаясь в текучей быстрине Дона. Со степи сухой и теплый ветер несет к жилью медвяные запахи цветущего чобора, а в займище пресно пахнет влажной травой, илом, сыростью, неумолчно кричат коростели, и прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчою тумана» (ТД: 7, VIII, 62). ***РАЗНОМАСТНАЯ И РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ЖИВОПИСНАЯ ТОЛПА (в обоих случаях дело происходит на железнодорожном вокзале) «На рельсах осталась разномастная, разновозрастная толпа. Все больше женщины и дети, изредка старики в дубленых тулупах…» («Около войны») – «Ждали поезда. Около вокзала топтались и дули на посиневшие пальцы музыканты военного оркестра. В карауле живописно застыли разномастные и разновозрастные казаки низовских станиц. Рядом с седобородыми дедами стояли безусые юнцы, перемеженные чубатыми фронтовиками» (ТД: 6, XI, 109). Кроме того: «За глубоким сухим оврагом, на зеленом пригорке, пестрела молодежь – девицы в ярких нарядах, разномастные ребятишки, подростки и парни в пиджаках, праздничных блузах и ярких рубахах. С пригорка открывался широкий и живописный вид: зеленый луг, извилистая зеркальная речка в изумрудной оправе, за речкой – великолепный белый дом в барской усадьбе, а за ним – в просеке рощи — тихо, торжественно румянела заря» («Мельком». 1914). По СРНГ первое употребление сходного клише: «Как сейчас вижу эту разношерстную и разномастную толпу добровольцев, состоявшую главным образом из отставных солдат» [Д. Н. Мамин-Сибиряк. Черты из жизни Пепко (1894)]. ***БЕЛАЯ КОЛОКОЛЬНЯ В ЗЕЛЕНОЙ ПЕНЕ/МАРЕВЕ САДОВ «Белая колоколенка справа, в селе Паслове, чуть маячит из зеленой пены садов, зелено чернеет березовая роща слева, по-весеннему, по-майскому нарядная, свежая и радостная» («Мельком». 1914). – «Он живо вспомнил эту глухую, улегшуюся на отшибе от большого шляха станицу, с юга прикрытую ровнехоньким неокидным лугом, опоясанную капризными извивами Хопра. Тогда еще с гребня, от Еланской грани, верст за двенадцать, увидел он зеленое марево садов в низине, белый обглоданный мосол высокой колокольни» (ТД: 4, XII, 116). ***В ОКНЕ ОГОНЬ ВИСЯЧЕЙ (КЕРОСИНОВОЙ) ЛАМПОЧКИ (ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ) «В мутную синеву сумерек брызнули кое-где золотым светом огоньки и в маленькие окошки можно было видеть детские головки вокруг стола, женские лица, а над ними закоптелую висячую лампочку» («Мельком». 1914). – «Поднимаясь на крыльцо, Григорий взглянул в окно. Тускло желтила кухню висячая лампа, в просвете стоял Петро, спиной к окну» (ТД: 2, X, 167); «Из хутора поднялся на косой бугор, оглянулся: в просвете окна последнего куреня желтел огонь висячей лампы, у окна за прялкой сидела пожилая казачка» (ТД: 3, XXIV, 397). ***УМИРАЮЩАЯ/ВЯНУЩАЯ ЗАРЯ «Перед глазами на фоне умирающей зари…» («Мельком». 1914) – «вечерами, когда вянут зори» (ТД: 1, I, 10). ПРОЧИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ ОЧЕРКА «МЕЛЬКОМ» (1914) И «ТИХОГО ДОНА»
шельмец Июнь 2007 – январь 2011 |